Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1942 года: «Кошек нет теперь, собаки — редкое явление. Тихо, безлюдно, безжизненно вокруг нас... Разговоры о еде, без конца о еде, и все о ней»

«ХУЖЕ ВСЕГО С ДРОВАМИ — ИХ НЕТ. НА БАЗАРЕ ОНИ СТОЯТ ОГРОМНЫХ ДЕНЕГ, А БЕЗ НИХ НЕЧЕМ СОГРЕТЬ ДАЖЕ ВОДЫ ДЛЯ ЧАЯ»
23 июня 1942 года, понедельник.
Год войны. Двести восемьдесят девятый день оккупации. С сегодняшнего дня пошел второй год войны. Думали ли мы 22 июня 1941 года, что переживем этот год? Но вот он уже позади и сколько человеческих жизней унес с собой! Кому нужна она, кроме нескольких сотен врагов человечества? С того дня, как началась война, весь мир втянут в нее. И не видно ей конца.
В статье о войне, которая была несколько дней назад в газете, немцы пишут: «Никто не знает, стоим мы у начала или у конца войны». А победа? Несмотря на тяжкие бесчисленные поражения, мы надеемся и верим в нашу победу.
По случаю «торжественной» годовщины войны было предложено всем «ответственным» работникам управ явиться в воскресенье 21 числа на «благодарственный» молебен в Андреевскую церковь. Немцы, кажется, никак не отметили 22 число. А партизаны отметили очередным взрывом железнодорожных путей в районе Броваров. Ответственность за взрывы несут броварские жители. Их ставят на ночь на охрану путей, по одному человеку через каждые сто метров. Стоят они, вооруженные палками. И если на их участке что-либо происходит, забирают всех. Кто возвращается и возвращается ли, неизвестно.
С прошлого вторника, уже неделю, сижу дома на соцстрахе. Так решили спасать меня от Германии. В библиотеке ждали комиссию по отбору в Германию. Поэтому меня уложили в постель. Знай я, где можно найти своих, ушла бы из города. Но есть только слухи, а где они, наши, никто не знает. Греюсь под одеялом и слушаю радио. Лета все нет в этом году. Все время холодно, хотя уже должно было бы быть жарко.
Цветет рожь и акация. Все зеленое в этом году. Город зарос травой и производит впечатление запустелых развалин. Нет клумб, нет цветов. Случайные прошлогодние маргаритки, случайно затерявшиеся в густой сорной траве, — таковы остатки наших прежних цветников. Никто не косит траву, никто не мнет ее. Немногочисленные дети ныряют в ее густые заросли в скверах. У домов вместо цветов — картофель, фасоль и свекла. Меж камней на улицах повырастали зеленые пучки травы.
На больших лестницах университета к колоннам подымается метровый бурьян. Университет действительно зарос травой. Откроются ли его двери в ближайшие годы? На краях щелей в нашем саду, засыпанных теперь мусором, выросли тоже буйные заросли сорняков и лопухов. И тысячи белых бабочек наполняют сад. Никогда сад не представлял собой такого зрелища.
Мириады крыльев белых бабочек однодневок покрыли его, словно огромными хлопьями летящего и медленно падающего снега. Эти бабочки вывелись из тысячи гусениц, которые обглодали листья фруктовых деревьев. И теперь стоят эти деревья, покрытые тонкими, словно тюлевыми, остовами листьев, вместо которых остались лишь тонкие торчащие жилки. Никто не ловит бабочек. Разве что немного птиц лакомится ими.
Кошек нет теперь, собаки — редкое явление. Тихо, безлюдно, безжизненно теперь вокруг нас. И Киев больше похож на огромную деревню, особенно вечером. Только в деревнях лают собаки, а в Киеве даже и их нет.

25 июня 1942 года, четверг.
Мне хотелось бы на мгновение заглянуть в души, вернее, в мысли, немцев, особенно тех, которые носят гороховую форму генералкомиссариата и красную повязку с черной свастикой на руке. Неужели все они слепо верят и повинуются идее своего фюрера, которая сейчас все больше и больше превращается в символ уничтожения человечества? Неужели эта бредовая теория, которая признает только немцев достойными того, чтобы жить на земле, — неужели эта идея способна завоевать абсолютное большинство в немецком народе? Нет, этого не может быть.
Свидетельством тому являются немцы в кандалах, обнаженные в 30-градусный мороз, которых гнали их же соотечественники зимой за Киевом. Невозможно представить себе, что нет среди них коммунистов или просто обыкновенных людей, которых можно было бы назвать людьми. И неужели никто из них не понимает того, что понимает каждый по-настоящему советский человек, что не могут они победить наш народ? И пусть даже так получилось, что временно победа оказалась на стороне фашизма, пусть даже мы стали на своей же земле германскими рабами, и многие, многие уже не увидят окончания войны, все равно в глубине души живет, иногда только слабо теплится надежда на то, что поражение наше не окончательное.
Базары ломятся от продуктов, зелени и ягод. Но катастрофически нет денег. И неоткуда их брать. Вещей на базаре еще больше, чем продуктов. И их никто не покупает. Цены упали значительно. Муки очень много на базаре, возможно, в связи с приказом о сдаче хлеба.
На обмен ходить в села теперь нельзя. Если раньше украинская полиция трясла мешочников, то теперь немцы расправляются своими методами с обменщиками.
Останавливают идущих в село и из села. В первом случае на кострах сжигают вещи, которые несут на обмен. Во втором случае забирают все дочиста, все продукты, арестовывают, избивают людей, разбивают в щепки самодельные тачки. И наряду с кипучими базарами, которые только для спекулянтов, продовольственный вопрос все обостряется и обостряется.
Хуже всего с дровами. Их нет. На базаре они стоят огромных денег. А без них нечем согреть даже воды для чая. Некоторые наши жильцы ломают по ночам чужие сараи. А вообще все тянут в авоськах или просто в руках поленца дров или щепки, откуда кто может.
«ПОЕЗДА, УХОДЯЩИЕ С НАШИМИ ЛЮДЬМИ В ГЕРМАНИЮ, ВСЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА ТРАУРНОЕ ШЕСТВИЕ ЗА ГРОБОМ»
30 июня 1942 года, вторник.
Дневник не пишется по нескольку дней. Страшно писать. Нет сил писать.
Кто-то принес известие о том, что вчера по радио немцы передали специальное сообщение о новой большой победе их под Ленинградом. Газеты еще нет. Проверить пока нельзя, а говорят о трехстах тысячах пленных. И в то же время город полон самых разнообразных слухов о мире, которого просят (по одним слухам) немцы или (по другим) Советский Союз. Одни говорят об одном, другие о другом. А мы по-прежнему ровно ничего не знаем.
В пятницу на прошлой неделе слушала последние известия из Москвы. Нам упорно не везет — все попадаем на боевые эпизоды, а существенного ничего. Но все равно. Родиной повеяло от этой, по существу мало говорящей о Союзе, передачи. Еще приятно узнать, что в Союзе известно все о нас. Там осведомлены о результатах пребывания рейхсминистра Розенберга на Украине. Из Москвы, точно так, как известно здесь, передали, что Кох пожаловался Розенбергу, что немецкие комиссары и бургомистры не могут войти в какой-либо контакт с украинским населением. Последнее оказывает упорное противодействие всем немецким мероприятиям. Это радостно слышать.
Партизан все больше в лесах. Интересны неофициальные броварские сведения. Взрывы, которые часто бывали в Броварах, вызвали там целый ряд репрессий. И для охраны путей было привлечено броварское население. Теперь эту охрану снимают, и слухи, которые ходят там, говорят, что для охраны путей везут туда итальянцев.
В городе действительно появилось много итальянцев. Они все смуглые, с черными, как смоль, волосами, маленькие, веселые и жизнерадостные. Но те, кто видел их ближе и дольше, говорят, что вся их жизнерадостность исчезает и заменяется мрачной молчаливостью, когда машины с ними отправляют на фронт. А каких только немцев не пособирали нынче в Киев! Кто пройдет по шоссе к Святошино, увидит их, кривоногих, хромых, полуслепых, худых, всяких, меньше всего похожих на вояк. Понятно, почему так тянут наших людей на тяжелые работы в «солнечную» Германию.
Из Германии вести все хуже и хуже. Кто вырывается оттуда, рассказывает возмутительные вещи. «Russische Schwein!» именуются наши люди. Пренебрежение и предубеждение к нашим так велики, что наши люди не имеют права пользоваться там уборными и умываться в помещении. Во двор, пожалуйте! А в виде особой, очевидно, привилегии моют ноги немецким хозяевам. На бирже, говорят, все чаще сообщают об убитых бомбами на заводах в Германии.
Англичане не перестают бомбить Гамбург, Бремен, Кельн и другие города. Немцы рассказывают о торпедах, которые они применяют. Сила их так велика, что двадцать домов на месте их попадания стираются с лица земли. Понятно, почему так много гражданского населения Германии едет сюда. Поезда, уходящие с нашими людьми в Германию, все больше похожи на траурное шествие за гробом.
Что означает тишина в библиотеке по поводу отправки в Германию? Говорят, д-р Бенцинг все делает, чтобы спасти своих подчиненных от отсылки.
Библиотека по-прежнему переносится. Сейчас для рейхскомиссариата освобождают четырнадцатый номер по бульвару Шевченко. С пыльного, душного чердака сносят Orientalia в новое здание библиотеки. Снова конвейеры по утрам из распухших и похуделых людей. Они все хотят есть и ждут не дождутся перерыва. А время тянется невероятно медленно, и голодные разговоры не могут его поторопить. И кажется, вот-вот упадешь на эти книги, которые камнями давят на руки, на все.
«НИКАКОГО ПОЧТЕНИЯ НЕ ВЫЗЫВАЮТ СЕЙЧАС ЭТИ ЛАТИНСКИЕ ФОЛИАНТЫ ИЛИ ОГРОМНЫЕ ИУДЕЙСКИЕ ПИСЬМЕНА, БИБЛИИ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ, ЕВАНГЕЛИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ И СЛАВЯНСКИЕ»
С завтрашнего дня предполагается девальвация денег — замена советских денежных знаков немецкими марками. К счастью, оказывается, что утренние информаторы переврали вчерашние особые сообщения. Взято не триста, а тридцать тысяч пленных в районе Волкова Ильменя. Бои там длились несколько недель. Эти сведения в газетах. Следовательно, еще делаем скидку на преувеличение. Взят еще какой-то английский порт.
Была только что во Владимирском соборе. Там мне пришлось работать до моей болезни по приведению в порядок залежей старопечатных книг. В соборе теперь тепло. С утра ежедневно отворяются синие врата собора, и теплый воздух может проникнуть в здание. Весь собор завален грудами ведомственной литературы.
Бесконечные стеллажи занимают все здание вместе с алтарем. И если смотреть сверху, то все это покрыто густым слоем пыли, которая лежит теперь нерушимо. На хорах с обеих сторон — старопечатные книги. Они занимают стеллажи и, кроме того, огромными бесформенными стосами лежат на полу, на перилах хоров, на окнах. Всю весну и всю прошлую осень протекала крыша. И изображения на стенах мокрыми пластами сползали и сыпались на старинные фолианты.
Доктор Бенцинг — специалист и любитель старопечатных изданий. Он распорядился привести их в христианский вид. И вот две недели эти книжки-лилипуты и книги-гиганты in folio в толстых кожаных переплетах втискивала я с помощью уборщицы Буровой на полки. Втискивали без всякого порядка, вместе с пылью, сыростью и червяками, которые их разъедают, втискивали, чтобы только они не лежали на полу.
Очень странно и дико бродить среди этих книжных мумий, которые прожили в двадцать раз больше нас и которые так далеки сейчас от войны, от всего, что вокруг происходит. И не нужны они никому сейчас. Никакого почтения не вызывают сейчас эти латинские фолианты или огромные иудейские письмена, библии всех времен и всех народов, евангелия западноевропейские и славянские.
И с предельной ясностью вспомнились слова о том, что ценность библиотеки заключается не в том, сколько в ней инкунабул, а сколько людей, сколько народа обслуживает она. И только сознание того, что все эти ценности еще будут служить народу после освобождения, заставляют бороться со всякими непозволительными мыслями и голодом.
Редко приходится поднимать голову. А между тем вокруг такие замечательные произведения. В соборе росписи Врубеля, Васнецова, Нестерова. Многое потускнело от времени, некоторые краски потемнели совсем. И только Нестеровские особенные лица по-прежнему ярки и потусторонни. Божья матерь Васнецова сохранилась. И Врубелевская арка тоже.
Что будет с этими горами книг? Непонятно, почему немцы платят нам деньги за собирание книг. Вывезти их они не смогут, не хватит у них пороху. А почтенные фолианты, да простят меня те, кто понимает их ценность, не вызывают у меня сейчас все равно никакого почтения.
Хлеб мы сегодня получили, получили муки по килограмму и по одной трети кусочка мыла. Вот это дело! А то в такое время фолианты!.. Но сама знаю, что не права. Из всех работ это самая лучшая. Все-таки это не прямая служба немцам.
«В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫДАЛИ ПОЛУЧКУ НАПОЛОВИНУ СОВЕТСКИМИ, НАПОЛОВИНУ УКРАИНСКИМИ ДЕНЬГАМИ. ПОПРОБУЙ РАЗОБРАТЬСЯ»
3 июля 1942 года, пятница.
С 1 июля введены новые деньги, и первым результатом было то, что все исчезло на базарах. Что будет дальше, неизвестно, а пока плохо.
Позавчера немцы объявили по радио об очередной своей победе. Ими взят Севастополь. Город, который героически оборонялся, не устоял. Немецкие сообщения говорят, что каждый метр города брали в упорном рукопашном бою. По тем же немецким сведениям, осада Севастополя длилась сорок девять дней. И еще сообщения о взятии Балаклавы и Малахова кургана, о боях в районе Волхова и Ильменя. Те же киевские газеты сообщают, что «три попытки Сталина прорвать фронт в направлении Харькова, Вязьмы и Волхова не осуществились». А что происходит в действительности, мы не знаем. Советское радио не удается слушать в эти дни.
В Киеве немцы говорят о себе, что они бьются из последних сил. И похоже, что это так, если на фронт пошли уже итальянцы, чехи, мадьяры и даже французы, то есть немцы стали на путь, которого они всячески избегали еще несколькими месяцами раньше. У них была все время установка такая — на фронте только немцы. От сообщений о победах немцев делается еще много тяжелее. Но если постараться на некоторое время абстрагироваться от нашего рабского положения, от судьбы отдельных людей, хотя они насчитываются миллионами, а стать на точку зрения государственной стратегии, то, возможно, наши стоят на правильном пути. Чем дальше в глубь страны растянутся немцы, тем вернее их поражение. Все приходит на память французское нашествие на Россию в 1812 году. Только почему не сказали всем нам уйти? Пусть бы застали немцы пустые села и города. А так, подумать только, какая ужасная трагедия получилась.
Вакханалия с деньгами продолжается, и у большинства прямо-таки нечего есть. Базаров нет, а если что-либо появляется, то по баснословным ценам. В газетах же ни слова о деньгах. Официально будто бы известно, что с 4 числа прекращают хождение и советские, и немецкие деньги. Однако спекулянты берут только советские деньги и в огромных количествах... А вчера в учреждениях выдали получку наполовину советскими, наполовину украинскими деньгами. Попробуй разобраться.
Очевидно же одно — нечего есть.

4 июля 1942 года, суббота.
По-прежнему никто ничего не понимает. Деньги ходят советские и украинские. И за все вместе ничего нельзя купить. И никто не может объяснить причины полного исчезновения базаров. Из-за денег ли эта вакханалия или из-за того, что в город не пускают крестьян с продуктами в связи с постановлением об изъятии всех продуктов у села?
Сидим, как мыши по углам. И самое большое наше желание — чтобы никто нас не трогал. А то и не нужны мы никому, никому нет никакого дела до нашей судьбы. И в то же время нет нам покоя никогда и нигде. Как жаль, что не пришлось мне работать в мастерской. Там не чувствовалась эта ужасная немецкая атмосфера. В библиотеке же, несмотря на хорошее как будто бы отношение со стороны администрации и сотрудников, такое чувство, словно живешь среди врагов. И гнетущее чувство постоянной настороженности не оставляет все время. И все время мне кажется, что во мне чувствуют оппозицию. Да я и не пытаюсь скрыть ее и подлаживаться к общему подобострастному тону.
Вчера был очередной академический концерт в консерватории. Играла и Галина среди девочек их класса. Играла лучше других. Уже несколько раз по пятницам были отчетные концерты учеников консерватории.
Героические усилия делают педагоги, стараясь удержать в немыслимых условиях студентов, отстаивая их от отправки на работы в Германию. И светлым пятном на грустном фоне наших теперешних дней выступает вообще консерватория. Внутри нее настроения не лучше, чем везде. Те же склоки, желание верхушки прислуживаться перед немцами, всякие личные отношения, мешающие работать. Но это лишь в одной официально руководящей части. А есть в консерватории крепкое советское ядро. И вот оно-то помогает нам всем. Городу же показывают лишь результаты учебной работы, и они совсем не плохие.
Есть талантливая молодежь, и приятно слушать многих из них. Был уже ряд открытых концертов силами преподавателей и студентов в пользу тех, кто в консерватории совсем голодает. Некоторые педагоги слабее своих учеников. Но все-таки концерты их — большое удовольствие.
В прошлое воскресенье был платный концерт в пользу организации буфета в консерватории. Программа была составлена исключительно из немецкой классической музыки: Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт и Бетховен. И исполняли самые серьезные вещи. Билеты продавались довольно вяло. Но перед самым концертом собралось много немцев, и зал больше чем наполовину был занят ими. Слушают они хорошо. Они сидят при этом ровные, как будто на спине у них линейки. И никто почти не ушел до конца концерта. Еще раз порадовались, что у немцев-стариков хорошая музыка. Теперь наш концертный зал в бывшем педагогическом институте. Начинаем уже привыкать к нему и к малому залу консерватории, который больше похож на зал для спортивных упражнений. Но по настоящему времени и это очень хорошо. Только бы не вздумали немцы закрыть консерваторию!
Нюся устает так сильно, что те, кто не видел ее в течение двух недель, говорят, что она тает на глазах. Плохо питается и укладывает все силы на то, чтобы в консерватории теплилась какая-то нужная жизнь. Нужна ли она теперь только? Должность Нюси — завбиблиотекой, где она одна за все и за всех.
«ДВЕ ЖИЗНИ ВСЕ ВРЕМЯ БЬЮТСЯ В КИЕВЕ ВОКРУГ НАС. ОДНА — НЕМЕЦКАЯ, СЫТАЯ, ДОВОЛЬНАЯ. ВТОРАЯ — НАША, ПОЛУГОЛОДНАЯ»
13 июля 1942 года, понедельник.
На работе боюсь теперь писать. Неспокойно мне. Уже больше двух недель словно нависло что-то надо мной в библиотеке. Это ощущается больше всего в настроении Луизы Карловны. И я все думаю о том, как я могла показать свое истинное настроение? Правда, ничего не могу с собой поделать, притворяться не умею. Тяжело работать здесь, словно только среди врагов. Лишь в подвале глубоко сидит единственный, кроме Елены Федоровны, достойный человек — столяр Болдырев. Он сказал сегодня, что не с кем ему поговорить, и спросил:
— Неужели большевики совсем погибли?
А на мой ответ: «Безусловно, нет!» — заплакал и затрясся весь. Он ненавидит всех, кто пресмыкается сейчас, и не может спокойно говорить о том, что происходит. Это он рассказал мне, что за время, пока в библиотеке заправлял Полулях, немцы вывезли в Германию более пятисот ящиков книг из самых ценных собраний Украины. Но что с тех пор, как начальником назначен Бенцинг, вывоз книг полностью прекратился. Он-то знает, потому что всю упаковку приходилось делать ему. У него семья, дочь, за которую он страшно боится. Слава Богу, о его настроениях не знает никто, потому что могут выгнать или сделать что-либо хуже. Говорить с ним очень трудно. Он совершенно глухой. Приходится кричать в трубку, приставленную к уху. Надеюсь только на то, что в подвал никто не рискнет лезть в темноту и грязь.
16 июля 1942 года, четверг.
Не пишется дневник. На работе боязно писать, а домой прихожу в совершенно неприличном состоянии. Очевидно, играет роль наше пониженное питание. Ни читать, ни писать, ни даже самые необходимые вещи, вроде стирки, штопки, нет возможности сделать.
Усиленно продолжается кампания отправки в Германию. Уже берут жен-иждивенок от мужей. Надежда Васильевна и Надежда Казимировна не спят. Воробьева предупредила, что будут облавы ночью и что все непрописанные в данной квартире будут задержаны. Облавы на базарах. Хватают безобидных, несчастных жителей, а спекулянты все равно благоденствуют. В связи с приказом о регистрации всех, не имеющих трудовых карточек, выясняется, что все спекулянты их имеют. Несомненно, за деньги.
Никаких связей с нашими. То, что начало налаживаться, заглохло. Те, кто приходил, давно не приходят. Разительным контрастом в то же время в тон нашим настроениям окружающая природа. Киев, Днепр, сады — все такое красивое! Все буйное, свежее и... абсолютно мертвое. В Царском дорожки покрылись мхом. В садах очень чинно стоят скамьи, оживают слегка от зимних морозов цветы. И нигде нет ни одной души. А каждое дерево, каждый поворот, дом, запахи цветов, цветущих лип — все без конца поднимает целые ворохи воспоминаний. И появляется чувство глубокой старости и безысходного отчаяния. Какое страшное время! И все-таки мы должны, должны его пережить и дождаться своих.
10 часов вечера. В 9 часов немцы передали особое сообщение о том, что после упорных боев пехотой занят Ворошиловград и что большая часть города горит.
24 июля 1942 года, пятница.
Снова много дней не пишется дневник. Света нет, а темнеет раньше. И работы много. Дома пишу афиши для многочисленных консерваторских концертов. Теперь в связи с окончанием учебного года они дают ряд концертов, платных, в пользу студентов, не могущих платить, и для организации столовой.
В библиотеке без конца носим книги, все собираем библиотеки по всему городу.
Липки заняты немцами. Еще более вылощенными стали наши всегда в том районе чистые улицы. Их занимают только немцы. Они же занимают и всю центральную часть Печерска. Уже нет даже старых названий улиц. Улица Кирова — Александровская, теперь D-r Todt Straße, Банковая — Bismark Str., Розы Люксембург — Екатерининская — Ghoten Str., Дворцовая площадь — Osbland Str. и так далее. И даже людей наших совсем мало на тех улицах. Только немцы да немецкие машины перед особняками. У парадных и перед генералкомиссариатом стоят полосатые красные с черным будки, какие были у нас в николаевские времена. И неподвижные, как истуканы, немецкие солдаты охраняют покой своего начальства. Бывает, из подъехавшей блестящей машины выскакивает щеголеватый немец-военный в задранной вверх фуражке. Он быстро, словно заводной на пружинах, взбегает к парадному. И тогда горничная в буклях и белоснежном переднике впускает его. Совсем как в заграничных кинокартинах. И наше все, и ничего нет больше нашего у нас.
Мы забираем теперь книги из дома наркоматов, что на углу Садовой и Кирова. Огромное, чудесное здание, творение академика Фомина.
Из окон хорошо виден город и та его сторона, где обгорелыми громадами торчат остатки центра, шумевшего еще год назад. Теперь в развалинах поселились птицы. У стволов обгоревших, погибших деревьев выросли новые буйные побеги. Меж камней пробилась трава, а на земле, что была в мешках на улицах, на бывших баррикадах, вырос высокий бурьян. И тихо совсем в мертвых улицах. В них теперь живые только трава и птицы.
Две жизни все время бьются в Киеве вокруг нас. Одна — немецкая, сытая, довольная. При ней пристроились приживальщики, те, кому все равно, какому Богу служить. Вторая — наша, полуголодная, а у многих совсем голодная, которая тянется и бежит, и все большей безнадежностью охватывает своих участников.
Мы клянчим у немцев подачки. В генералкомиссариате в виде особой милости стали выдавать некоторым учреждениям ордера на рыбу третьего сорта (у немцев ее не ест даже прислуга), молочные отбросы, а теперь еще и овощи. Выдали кому-то раз, другой. Узнали об этом многие, все пошли просить. И блага окончились. Сказано — не приходить больше. Никто ничего не получит. Распределять остатки будет представитель управы при штадткомиссариате. У него я во вторник, проходя мимо случайно, достала овощи для сотрудников.

29 июля 1942 года.
Темно. Восемь часов, а уже ничего не видно. Пишу на ощупь. Днем нет времени, а вечером нет света и нет сил. Продолжаем катастрофически худеть. Работаем исключительно на работе грузчиков. Грузим и возим без конца книги из дома наркоматов — Кирова, 23.
Никаких хороших новостей нет у нас. Никаких надежд на скорое окончание войны. Город полон слухов, самых невероятных. Говорят, что Сталин, Рузвельт и Черчилль заключили на конференции (на какой, нам неизвестно) союз для полного уничтожения немцев.
«ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИОБРЕЛО ТАКОЙ РАЗМАХ, ЧТО НЕМЦЫ БЕССИЛЬНЫ»
7 августа 1942 года, пятница.
В сегодняшней газете: взят Тихорецк. Я не успеваю за событиями. Мы все слишком обессилены жарой, которая с силой 40 градусов наверстывает потерянное время. Нет сил не только писать. Их не хватает на то, чтобы сохранить надежду на лучшее. И хотя мы ее не теряем, тем не менее, немецкие победы заставляют снова предполагать что угодно. Они берут один за другим города Кубани. О других фронтах ни слова. Газеты пестрят крупными заголовками: «Кубань бежит!». Но нельзя не сказать о том, что если в прошлом году «триумфальное» шествие немцев приводило нас всех в отчаянье, то теперешние их победы вызывают больше недоумений, нежели опасений. А еще, когда сами немцы говорят, что «мы выигрываем города, а Англия с союзниками выигрывают войну», тогда где-то подсознательно зреет надежда, что перелом в войне должен быть. И что наши пойдут вперед.
Мы не стратеги и не пророки. Я уже писала об этом раньше. Но простая логика вещей говорит о том, что чем больше территория, занятая немцами, тем больше нужно сил, чтобы удерживать народ на ней в повиновении. Это становится для немцев все труднее и труднее. Урожай очень хороший в этом году. Немцы хотят его забрать себе. А крестьяне, у которых они забирают все, заявляют: «Если не нам, то никому!». И хлеб зарывают в землю. А партизанское движение приобрело уже такой размах, что немцы бессильны что-либо предпринять.
Теперь от духоты мы совсем как вареные, особенно на нашем книжном конвейере. Мы еще на прошлой неделе закончили работу на Кирова, 23. И теперь на руках переносим библиотеку Института литературы и фольклора с улицы Ленина, 15. Там душно и пыльно. И вот 16 наших библиотекарей выстраиваются в ряд, сначала от библиотеки до лестницы, потом — на первых трех маршах, потом — на вторых трех. И так в три приема спускаем мы тысячи три книг. А потом все вооружаются веревками, и публика на улицах с интересом смотрит на медленно плетущихся престарелых и полупрестарелых библиотекарш, которые отдыхают на всех углах, прислоняя к стене висящие на плечах небольшие связки книг. И при этом разговоры о еде, без конца о еде, и все о ней.
Рассказывают, что из Харькова приехал писатель Аркадий Любченко. С его слов, говорят о применении немцами в бою под Харьковом снарядов с газами.
«ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО ТОЛКОВОЕ ДЛЯ НАШИХ МЫ НЕ МОЖЕМ, А ПОГИБНУТЬ ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ СТОИТ. ТАК ХОТЬ БЫ С ПОЛЬЗОЙ ПОГИБАТЬ!».
9 часов вечера. Таня принесла ужасную новость: арестованы Шура Тристан, ее мать и сестры. Остались безногий старик-отец и малютка Игорь. Забрало их гестапо за помощь партизанам и за то, что они скрывались от Германии. Говорят, что выдала их управдом.
Татьяна плачет и спрашивает: кто следующий?
Не мы ли? Вот и получается: делать что-либо толковое для наших мы не можем, а погибнуть теперь ничего не стоит. Так хоть бы с пользой погибать! Успели ли Шура и ее семья что-нибудь сделать, не знаем мы. Очень страшно жить.
18 августа 1942 года, вторник.
Как-то страшно теперь писать. Словно бумага тоже может продать, словно стены могут подсмотреть и подслушать мысли. Виселицы, гестапо, концлагеря — все это непрерывно висит над нами. В окрестностях Броваров в селах повесили немцы на прошлой неделе семьдесят пять человек. Были какие-то взрывы. И снова, как в прошлые разы, отвечало за них население. И никакого, выходит, сопротивления. Просто ужасно — до чего мы неорганизованы и беспомощны. Коммунисты, которые есть вокруг нас, все вроде Ильи Сидоровича. Он ушел в Макаров, а когда приходит, спрашивает у меня — «победят ли наши», потому что он такую надежду потерял. Наши связи мизерны.
А Воробьева, она действительно настоящий боец. Все силы она прилагает, чтобы спасти народ от Германии, но сама еженощно ждет, что ее заберет гестапо. Чувствует, что обречена, а уйти искать партизан или подполье не решается. Из всех, из всех она самая славная. И за то ей спасибо, что еще никого в нашем доме не выдала — ни в Германию, ни немцам. О Р... никто ничего не сказал, и он жив.
Однако, хотя немецкая жизнь бьет ключом и резким контрастом выделяется на фоне нашей мертвой жизни, тем не менее, что-то изменилось в последнее время. Что именно, не могу пока определить. Это какие-то симптомы в настроениях нашего библиотечного шефа Бенцинга. Он стал мрачным и злым. А это немедленно передается его помощникам, а затем и всем работникам библиотеки. И сегодня в разговорах вокруг даже пронемецкие дамы сделали вывод, что его плохое настроение определяется малыми успехами немцев на фронте.
(Продолжение следует)

 Внук Сталина, сын Василия Сталина, российский театральный режиссер Александр БУРДОНСКИЙ: «Мачеха, дочь маршала Тимошенко, била нас смертным боем, даже плеткой, Наде, сестре, губу нижнюю оторвала. Ее, девочку шести-семи лет, ногами в сапогах избивала и почки отбила»
Внук Сталина, сын Василия Сталина, российский театральный режиссер Александр БУРДОНСКИЙ: «Мачеха, дочь маршала Тимошенко, била нас смертным боем, даже плеткой, Наде, сестре, губу нижнюю оторвала. Ее, девочку шести-семи лет, ногами в сапогах избивала и почки отбила» Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Хрущев говном собачьим меня обозвал, а потом вошел в раж и стал совершенно неуправляемым: кричал, брызгал слюной... Казалось, у него вот-вот будет падучая»
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Хрущев говном собачьим меня обозвал, а потом вошел в раж и стал совершенно неуправляемым: кричал, брызгал слюной... Казалось, у него вот-вот будет падучая» Глава Одесской таможни Юлия МАРУШЕВСКАЯ: «Система сконструирована так, чтобы таможенники оставались на грани выживания и были вынуждены красть»
Глава Одесской таможни Юлия МАРУШЕВСКАЯ: «Система сконструирована так, чтобы таможенники оставались на грани выживания и были вынуждены красть» Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ: «Телемарафон «Пісня об’єднує нас!» — безпрецедентний вікопомний мегапроект, унікальний для нашої країни»
Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ: «Телемарафон «Пісня об’єднує нас!» — безпрецедентний вікопомний мегапроект, унікальний для нашої країни» Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1942 года: «Кошек нет теперь, собаки — редкое явление. Тихо, безлюдно, безжизненно вокруг нас... Разговоры о еде, без конца о еде, и все о ней»
Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1942 года: «Кошек нет теперь, собаки — редкое явление. Тихо, безлюдно, безжизненно вокруг нас... Разговоры о еде, без конца о еде, и все о ней»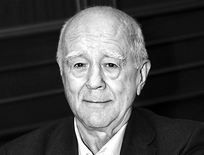 Неудобный вопрос: зачем?
Неудобный вопрос: зачем? Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги